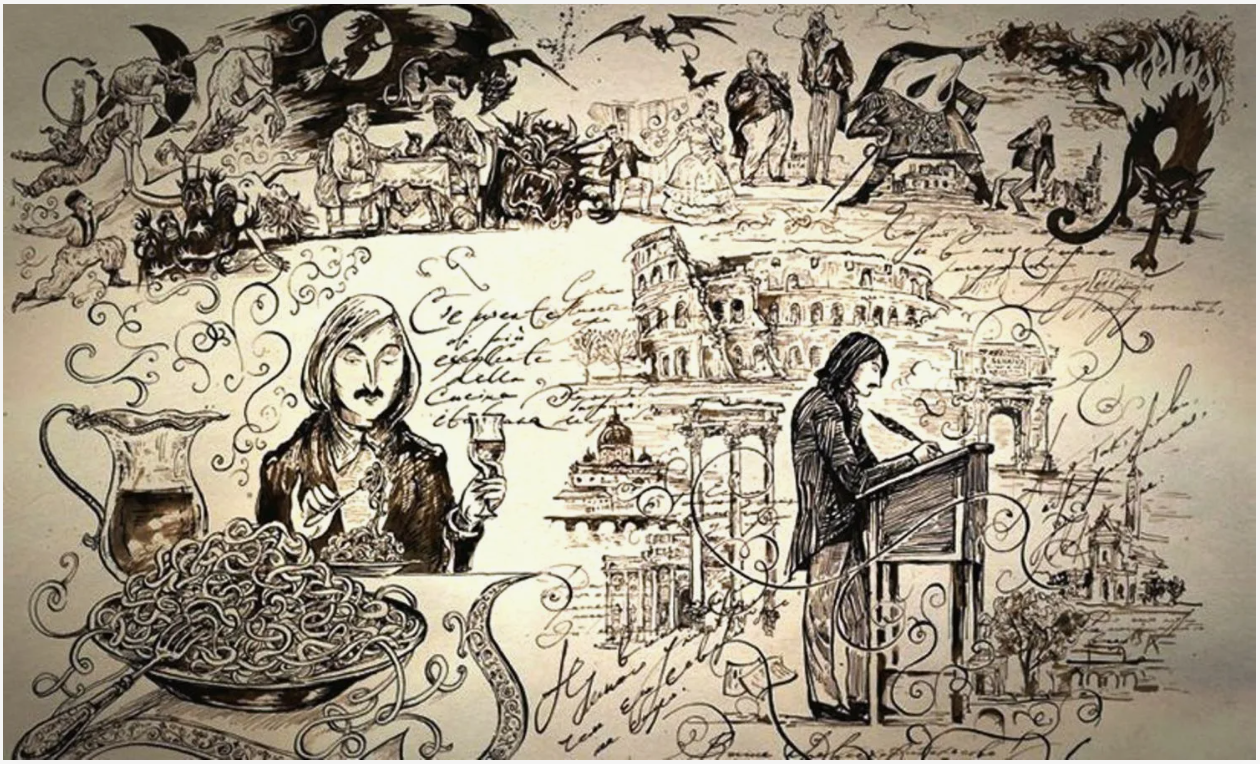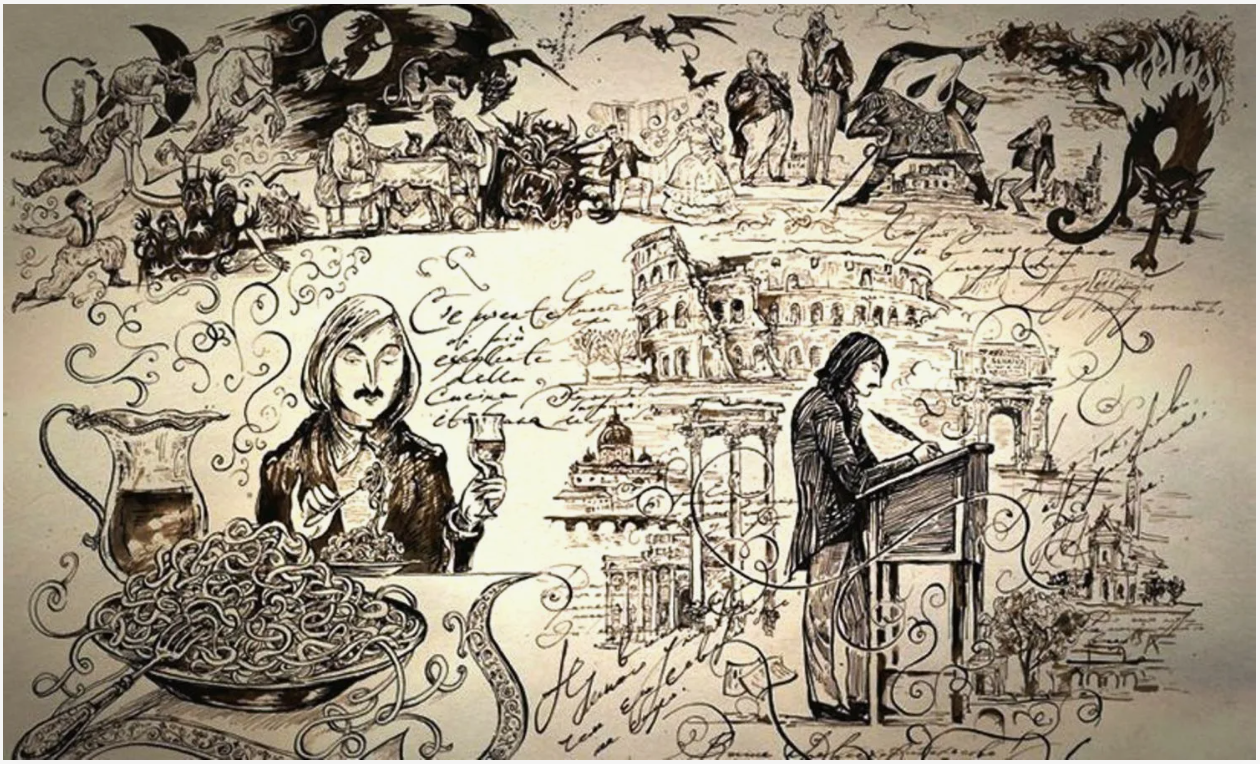Вопрос о том, как кулинарные пристрастия писателей находят свое отражение в их произведениях, пока еще ждет своего вдумчивого исследователя. Однако и теперь уже можно предположить, что если в тексте присутствует увлекательное описание процесса приготовления или употребления пищи, то, скорее всего, автор этого текста сам был не прочь хорошо покушать.
В самом деле, легко представить, что для описания несчастной любви героя, вовсе не обязательно самому иметь подобный личный опыт. Но, согласимся, описать вкус хорошо приготовленного блюда можно лишь при условии, что ты сам его однажды с удовольствием ел.
„"Ничего не упомяну ни о мнишках* в сметане, ни об утрибке*, которую подавали к борщу, ни об индейке со сливами и изюмом, ни о том кушанье, которое очень походило видом на сапоги, намоченные в квасе, ни о том соусе, который есть лебединая песнь старинного повара … Не стану говорить об этих кушаньях потому, что мне гораздо более нравится их есть, нежели распространяться о них в разговорах".
Н.В. Гоголь «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»
* Мнишки — блюдо, похожее на сырники. Шарики из муки, яиц, творога, молока и вареного тертого картофеля формуют в шарики и жарят в масле до готовности. Подают, как и написано, со сметаной.
* Утрибка — блюдо из потрохов.
Николай Васильевич Гоголь имел безусловное право на такие слова. Современники отмечают, что с юных лет будущий гений русской словесности был, мягко говоря, неравнодушен к еде, а сказать прямо, обожал сладости. Его карманы были всегда полны всякой вкуснятиной — конфетами, печеньями, кусками пирожков, сахара и пр. Он беспрестанно жевал липкие сладости, даже во время занятий, и соученики, бывало, брезговали дотрагиваться до его учебников. Любовь к сладкому сохранилась у писателя на всю жизнь.
Считается, что если бы Гоголь не стал великим писателем, то стал бы настоящим мастером-поваром. Особенной его любовью пользовались макароны, которые он просто обожал и есть и готовить. Когда в Италии, где писатель провел немало лет, он приходил в тратторию и заказывал любимое блюдо, вокруг него собирались посетители, чтобы возбудить собственный аппетит: Гоголь ел за четверых. И наоборот, друзья вспоминают, с каким воодушевлением писатель сам макароны готовил: „Потребует себе большую миску и с искусством истинного гастронома начнет перебирать их по макаронке, опустит в дымящуюся миску сливочного масла, тертого сыру, перцу, перетрясет все вместе и, открыв крышку, с какой-то особенно веселой улыбкой, обведя глазами всех сидящих за столом, воскликнет: «Ну, теперь ратуйте, людие!».
Специалисты насчитывают в произведениях писателя десятки упоминаний , а то и рецептов блюд самых разных кухонь — украинской, русской, европейской. Можно сказать, что еда, в том или ином виде, занимает весьма достойное место в художественной палитре мастера. Вспомним знакомую с школы комедию „Ревизор“. „Открытие“ Хлестакова началось с того, что два приятеля, Добчинский и Бобчинский встретились у будки, торгующей пирогами и отправились к Филиппу Антоновичу Почечуеву, к которому ранее уже была отправлена ключница за бочонком для французской водки. Пойти то они, пошли, да по дороге Добчинский почувствовал голод: „« В желудке-то у меня… с утра я ничего не ел, так желудочное трясение…А в трактир… привезли теперь свежей семги, так мы закусим».“ В трактире они и обнаружили Хлестакова, который, сам испытывая который день „желудочное трясение“, заглядывал обедающим в тарелки. Так голод сводит вместе будущего ревизора с его излишне доверчивыми подопечными.
Впрочем, уже скоро, Хлестаков признается: „Завтрак был очень хорош; я совсем объелся“ и добавляет: „Я люблю поесть.“ И, конечно, последующий рассказ о шикарной жизни вечно недоедающего любителя поесть, не обходится без арбуза за семьсот рублей и кастрюльки с супом прямо из Парижа.
Самые разные кушанья могут быть представлены у Гоголя в сатирическом, ироническом и даже лирическом контекстах, но они всегда столь убедительны, что не приходится сомневаться: великий писатель отлично понимал какое наслаждение может подарить вкусная обильная еда и, наоборот, какие муки приносит человеку голод, особенно, если этот человек любит плотно поесть.
Гоголь оставил потомкам не только литературное, но и кулинарное наследство. Изданы целые книги с рецептами блюд и напитков, связанных с гоголевскими произведениями. В ресторанах и литературных клубах, а при желании, и у себя дома, можно отведать настоящий бараний бок с гречневой кашей или борщ с пампушками, кулебяку с разнообразными начинками, не позабыв про вареники и галушки. А там, если войти во вкус, дело может дойти и до поросенка, запеченного с хреном и сметаной. Не говоря о закусках, например о грибочках с чебрецом, с гвоздиками, мускатными орехами и смородиновым листом.
Спагетти и макароны со сливочным маслом и пармезаном по Гоголю
Н. В. Гоголь, находясь в любезной его сердцу Италии, со свойственной ему дотошностью подробно изучил, как там готовят макароны, и безуспешно пытался приобщить к этому, сравнительно новому для России тех времен продукту, своих друзей в России, которые, увы, не оценили ни его стараний, ни вкуса макарон, приготовленных по всем итальянским правилам.
Даже близко друживший с ним С. М. Аксаков писал об этом с легкой усмешкой: «Третьего числа, часа за два до обеда, вдруг прибегает к нам Гоголь (меня не было дома), вытаскивает из карманов макароны, сыр пармезан и даже сливочное масло и просит, чтоб призвали повара и растолковали ему, как сварить макароны… Когда подали макароны, которые, по приказанию Гоголя, не были доварены, он сам принялся стряпать. Стоя на ногах перед миской, он засучил обшлага и с торопливостью, и в то же время с аккуратностью, положил сначала множество масла и двумя соусными ложками принялся мешать макароны, потом положил соли, потом перцу и, наконец, сыр и продолжал долго мешать.
Нельзя было без смеха и удивления смотреть на Гоголя; он так от всей души занимался этим делом, как будто оно было его любимое ремесло, и я подумал, что если б судьба не сделала Гоголя великим поэтом, то он был бы непременно артистом-поваром. Как скоро оказался признак, что макароны готовы, то есть когда распустившийся сыр начал тянуться нитками, Гоголь с великою торопливостью заставил нас положить себе на тарелки макарон и кушать. Макароны точно были очень вкусны, но многим показались не доварены и слишком посыпаны перцем; но Гоголь находил их очень удачными, ел много и не чувствовал потом никакой тягости, на которую некоторые потом жаловались… Во все время пребывания Гоголя в Москве макароны появлялись у нас довольно часто».
Рецепт и этапы приготовления:
200 г спагетти или макарон, 50 г сливочного масла, 75 г натертого на мелкой терке пармезана, молотый душистый перец, соль.
В кипящую воду положить спагетти или макароны и отварить «аль денте», или, по Гоголю, «недоварить». При этом следует руководствоваться временем, указанным на упаковке, и собственным опытом.
Быстро слить воду, откинув на дуршлаг, не мешкая вернуть в горячую кастрюлю и, поступить как великий писатель, который так и не став артистом-поваром, «двумя соусными ложками принялся мешать макароны, потом положил соли, потом перцу и, наконец, сыр и продолжал долго мешать».
Когда масло и сыр распустятся, следует «с великою торопливостью» подавать макароны на горячих тарелках, украсив листиками базилика или орегано.